Уже не первый год приглашённые профессоры из-за рубежа и ведущих научных центров России читают циклы лекций для студентов СахГУ. В феврале 2022 года с этой целью остров посетил Константин Северинов – доктор биологических наук, профессор, советник главного исполнительного директора ПАО «НК «Роснефть», генеральный директор ООО «БИОТЕК КАМПУС», профессор Сколковского института науки и технологий (SkolTech), профессор Университета Ратгерса (США).
– Константин Викторович, многие наши студенты планируют так или иначе связать свою жизнь с научной деятельностью. А как начался ваш личный путь в науку?
– Мне кажется, у большинства профессиональных учёных интерес появляется очень рано. У меня это было, наверное, лет в шесть. Я вырос в городе Таллинне, там тоже море рядом и вообще красиво. Хотя мои родители физики, но был друг семьи – биолог, который работал в таллиннском зоопарке и постоянно рассказывал про всяких зверей, на это наложились книжки Даррелла. Кроме того, мне повезло, что в советской Эстонии не глушили финское и шведское телевидение, поэтому я видел фильмы Кусто про морской мир, и, естественно, «заболел» этим всем.
В итоге я, правда, занимаюсь не организменной биологией, а молекулярной. Просто когда повзрослел, то вдруг понял, что мне интереснее видеть не внешнее разнообразие жизни, а понимать, единство ее устройства изнутри.
– Вы уже больше четверти века живёте и преподаёте в США. Есть ли какая-то разница в подготовке студентов по биологии в России и в Штатах?
– Мне кажется, что да, и тут несколько аспектов. Первое: кроме огромного количества частных университетов в каждом из 50 с лишним штатов Америки есть очень крупные штатные университеты, в каждом из которых обучается от 20 до 40 тысяч студентов. В целом уровень подготовки студентов и научных исследований там очень высокий и, я бы сказал – равномерный.
В России же есть несколько известных центров высшего образования и науки – Москва, Петербург, Новосибирск, может быть, Казань и Нижний Новгород, – а все остальное… Нельзя сказать, что выжженная пустыня, но отставание чувствуется как по уровню материального обеспечения учебного процесса, так и по качеству педагогического состава. Ну и по студентам, потому что «топовые» студенты норовят уехать вот в эти, скажем так, «центры силы».
В США это гораздо меньше проявляется, и поэтому нет в ощущения, что стоит какой-то замок на горе, а вокруг ничего нет.

Ну и второе: как-то вдруг люди осознали, что в биологии нет строгих разделов типа биофизики, биохимии, микробиологии, ботаники и прочего. Ведь можно делить так до бесконечности. Сейчас сложилось такое общее укрупнённое понятие, по-английски life sciences: «науки о жизни». Все принимают, что мы изучаем саму жизнь как явление, а уже методы, способы, как мы это смотрим, через микроскоп или через очки, не играют большой роли. И вот такой обобщённый подход, менее структурированный, для Америки более характерен, чем для России.
И третье, что стоит сказать: к сожалению, развал Советского Союза и отъезд за рубеж очень большого количества учёных в начале 90‑х произошёл в очень «неудачный» момент. Как раз в девяностые годы произошёл какой-то совершено тектонический сдвиг, экспоненциальный взрыв с точки зрения развития новый технологий и методов в нашей науке. Учёные, получили возможность делать то, о чём раньше нельзя было даже мечтать. Так вот, этот прорыв прошёл как бы мимо нас, и поэтому сейчас состояние наук о жизни, и, как следствие, образования в этой области в России в целом оставляет желать лучшего.
С недавних пор ситуацию пытаются поменять, принята федеральная программа по развитию генетических технологий и геномного редактирования, вливаются какие-то средства. Есть понимание, что делать это важно, потому что именно науки о жизни будут двигать цивилизацию в 21 веке, как физика двигала в веке 20‑м.
– Есть ли сейчас в нашей стране какое-то стратегическое научное направление, которым можно похвастаться?
– Знаете, ещё в 2012 году были озвучены предвыборные обещания по науке, где говорилось о том, что мы как страна должны повысить количество статей научных в международных рейтинговых журналах –точность цифр не гарантирую, но там было что то поднять с 1,5 до 1,75 процента. Для сравнения, Соединённые Штаты выдают на-гора до 30% мировой научной продукции. Китай – тоже где-то около 30%. Качество тех статей, которые мы как страна выдаём, в среднем ниже, чем качество статей из стран, с которыми мы хотели бы конкурировать. То есть, наши учёные в целом публикуются в журналах худшего уровня по мировым меркам, и их статьи меньше цитируются. Поэтому при таком количественно небольшом вкладе российской науки в мировую копилку знаний ожидать каких-то крупных прорывов от нас не приходится. Это просто объективное следствие, потому что у нас не так много учёных. И условия для их работы тоже на сегодняшний момент не самые лучшие.
Конечно, это не означает, что здесь ничего интересного не происходит. Например, новосибирские ученые, работающие с академиком Деревянко сыграли ключевую роль в открытии третьего вида человека, отличного от гомо сапиенс и неандертальцев. Этот вид, который существовал несколько десятков тысяч лет назад, называется теперь денисовцы.
Но вклад наших ученых в это открытие очень характерный, он показывает ту немножко подсобную роль, которую мы играем в мировой науке. Команда академика Деревянко обнаружила в пещере маленькую косточку, которая оказалась фалангой пальца древнего человека. Этот образец был передан в Германию в мощный геномный центр, где древняя ДНК была выделена из фрагмента кости, проведено геномное секвенирования и сделано сравнение полученных последовательностей ДНК с ДНК современных людей и неандертальцев. Именно так и выяснилось, что в Денисовской пещере находились какие-то особенные люди, отличающиеся и от нас, и от неандертальцев.
Потом таких людей стали находить довольно много: по-видимому, это группа, которая довольно долго существовала, в Азии, и у современных представителей азиатских рас довольно много генов от денисовцев. В общем, это крупное открытие. Но сделать его полностью в России было бы невозможным.
– В своих лекциях на Сахалине вы в том числе затрагивали тему коронавируса. Чем этот вирус интересен с точки зрения молекулярной биологии, генетики?
– Для биологов ныне, конечно, хорошее время, потому что человечество осознало, что здоровая, счастливая и богатая жизнь не гарантирована. Несмотря на любые технологические прорывы, мы не вечны, и в общем-то, довольно банальный, ничем не выдающийся вирус может остановить всю экономику.
Пандемия показала, насколько мощной стала молекулярная биология и фармакологическая промышленность.
Два года назад на вопрос, скоро ли будет вакцина, я по прошлому опыту утверждал, что вряд ли она может быть создана в течение нескольких лет. До недавних пор для создания, тестирования и доказательства эффективности вакцины требовались годы. Но оказалось, что все можно делать гораздо быстрее. И это не значит, что хуже, нет, просто методы, которыми владеют современные учёные, действительно позволяют оперативно делать продукты, которые спасают жизни.
Ещё пандемия показала, мощь компьютерной биологии. Оказалось, что вирус вовсе необязательно выделять, чтобы начать создавать методы его диагностики или разрабатывать вакцины. Современные методы геномного секвенирования позволили идентифицировать вирус, «прочесть» последовательность его генома.
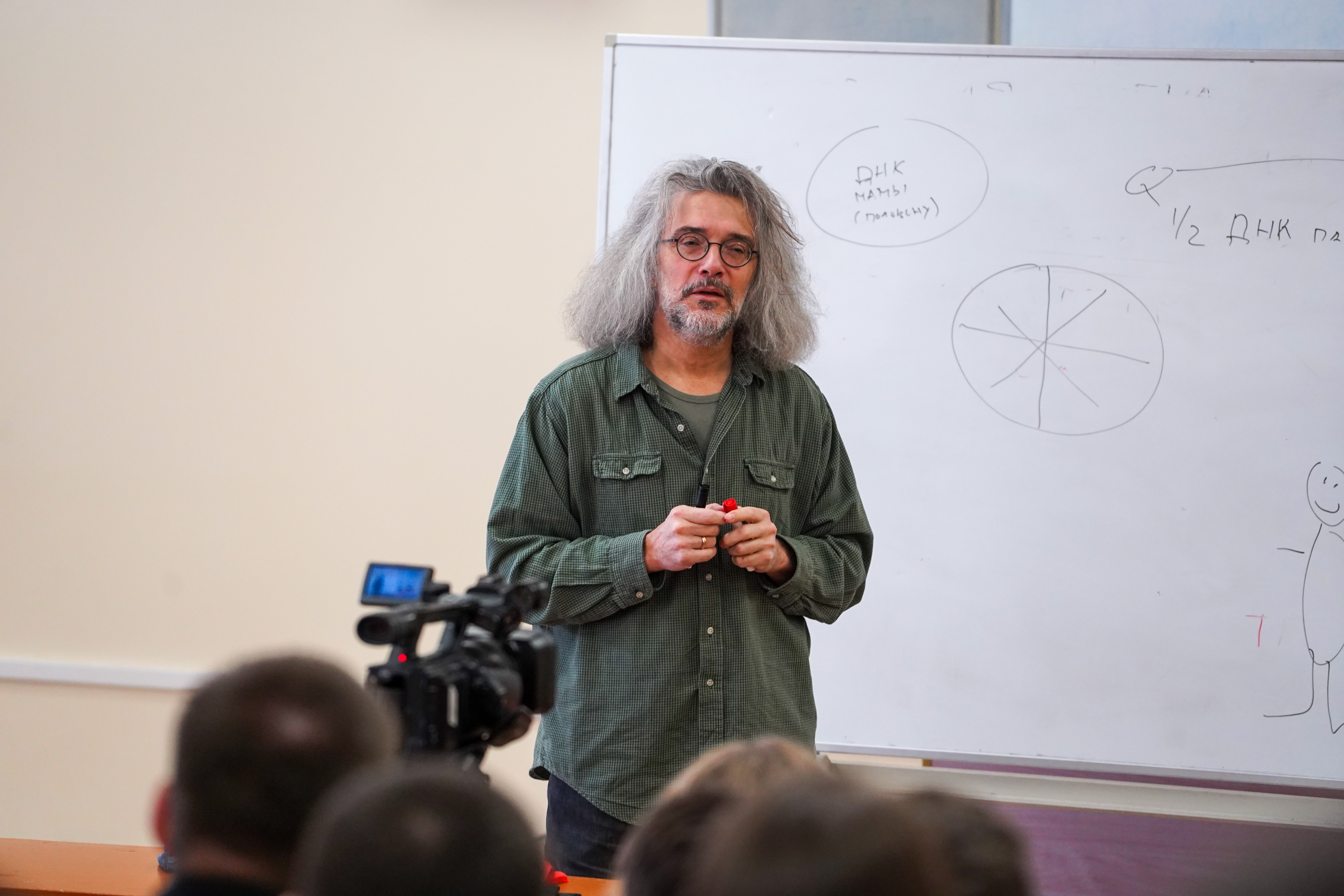
А дальше – дело техники. Если вы идентифицировали вирус в больных людях как определенную генетическую последовательность, то вы можете не выделяя вирус в чистой культуре, как это делалось в 20‑м веке, использовать его генетическую информаци вместе с методами молекулярного клонирования для создания вакцины. Это очень мощный подход.
Компьютерная биология и геномное секвенирование позволили осуществлять эпидемиологический мониторинг вируса, следить за его эволюцией фактически в реальном времени. Все что для этого нужно – сравнивать «генетические тексты», последовательности геномов вирусов, выделенных из зараженных людей. Все эти штаммы, о которых сейчас модно говорить, выявляются именно таким образом.
– Коронавирус теперь с нами навсегда? Это как новый грипп?
– С точки зрения вирусологии ничего общего между коронавирусом и вирусом гриппа нет. Так же как нет ничего общего, например, между вирусами иммунодефицита, вирусом полиомиелита и вирусом оспы. Они абсолютно разные.
Но, судя по всему, коронавирус с нами останется. Один раз перескочив на человека, неважно, с летучей мыши или ещё кого-то, он теперь использует нас как своего естественного хозяина. С вирусом гриппа ситуация не такая, его естественной средой обитания являются птицы и свиньи в Юго-Восточной Азии и иногда на нас перепрыгивает, и распространяется по миру, а потом исчезает до новой волны. А коронавирус стал вполне себе человеческим вирусом, без каких-либо промежуточных хозяев.
Моё предсказание такое, что мы из состояния эпидемии, когда количество заболевающих во времени увеличивается, мы перейдём в состояние эндемии, когда каждый год будет заражаться более-менее одинаковое количество людей. Какое-то количество людей будет умирать. Будем с этим жить так же, как мы живём с малярией или с какими-то риновирусными инфекциями. Раз переболев коронавирусом, мы будем становится иммунными к нему, но лишь на некоторое время. Иммунитет будет ослабевать, и мы будем заражаться снова. Так как всегда в популяции будет значительное количество людей с исчезнувшим иммунитетом, то вирусу всегда будет кого заразить. Такая дурная бесконечность.
– Один из интересных аспектов ваших исследований – эта борьба бактерий и их вирусов. Будет ли победитель в этой борьбе? И какой исход этой конкуренции полезен для человека?
– Хороший вопрос! Никто не победит. С точки зрения эволюции, эта такая нескончаемая «гонка вооружений». У бактерий есть огромное количество вирусов-бактериофагов, которые постоянно их заражают и убивают. При этом из умерших бактерий выходят сотни новых, дочерних вирусов, готовых заразить новые бактерии. Но если бы вирусы победили бактерии, то сами бы сдохли, как в компьютерных играх, был бы «гейм овер». Потому что бактерии нужны бактериофагам, чтобы в них размножаться.
А если бы бактерии победили, то вирусы возникли бы заново, они в некотором смысле могут возникать из ничего, вернее за счет комбинации различных генов бактерий. В общем, два участника этой гонки – паразит-вирус и его хозяин-бактерия, постоянно эволюционируют, приобретают новые средства нападения и средства защиты, но полной победы не одерживает ни та, ни другая сторона.
Мне очень интересно изучать эту гонку, смотреть, какие у каждой из двух сторон молекулярные механизмы для атаки и для защиты.
Изучение такого, казалось бы, эзотерического и фундаментального вопроса, принести очень большую практическую пользу. Например, всё молекулярное клонирование, методы которого разработаны в семидесятых годах, и благодаря которым у нас есть рекомбинантный инсулин для диабетиков, различные гормоны, терапевтические антитела для лечения онкологических заболеваний и многое другое – делается с помощью ферментов, которые бактерии использует для борьбы с вирусами.
Другой свежий пример – это геномное редактирование, за которое пару лет назад дали Нобелевскую премию. Геномное редактирования осуществляется с помощью CRISPR-Cas, система, которую бактерии используют для того, чтобы бороться со своими вирусами. Оказалось, что с помощью CRISPR-Cas можно филигранно вносить изменения в нужное место генома растений, сельскохозяйственных животных, ну или человека. И в будущем наверняка у нас появятся способы лечения тяжёлых генетических заболеваний, которые сейчас неизлечимы, таких, как рак и некоторые врождённые дефекты с помощью «редактирования» наших клеток.
Кроме изучения как бактерии и их вирусы воюют друг с другом, нам интересно разнообразие вирусов и бактерий, живущих по всему миру. Два года назад мы на Итурупе собирали пробы в горячих источниках, а потом сравнивали их обитателей с микробами из горячих источников в Европе, Южной Америки и США. Сейчас у нас есть большой грант от Министерства образования и науки где мы используем методы геномного анализа и компьютерной биологии для создания атлас микробных сообществ морей России. Было бы очень интересно включить в этот проект Сахалин. Знать микробное разнообразие морей очень важно. Ведь исход «разборок» между вирусами и бактериями очень важен для морских экосистем, так как влияет на высвобождения органических веществ в воду, на развитие планктона, на рыб и так далее, и тому подобное.
– И последний вопрос – о наших мечтах. Когда люди станут бессмертными? Что говорят генетики?
– Я надеюсь, что никогда. Жизнь существует почти столько, сколько и планета. Условия на Земле постоянно изменяются, поэтому жизнь тоже должна меняться – те, кто не приспособлен, умрут, а приспособленные сожрут их и за счёт этого расцветут, чтобы потом тоже умереть. На этом основана дарвинская эволюция. Но каждый из ныне живущих, неважно, человек или бактерия, является прямым потомком самого первого живого существа, мы все связаны такой тонкой длинной нитью жизни.
У людей, в отличие от всех остальных зверушек, есть культура, которая, на мой взгляд, позволяет нам достичь бессмертия гораздо более эффективно, чем несуществующая таблетка долголетия. Вот Толстой – умер или нет? Он в некотором смысле живее всех живых. Или Христос, или ещё кто-нибудь. То есть, у нас есть возможность достичь не просто бесконечно долгого существования своей бренной оболочки, а сделать что-то полезное не только для себя, но и других. И таким образом оставить свой след, который будет существовать долго.
Но это не означает, что нет людей, которые умирают, условно говоря, раньше положенного срока и что не надо ничего предпринимать на этот счет. Например, в рамках технологического партнёрства ПАО «НК «Роснефть» с российским правительством мы создаём очень крупный центр геномного секвенирования, где планируем определить до сотни тысяч геномов россиян. Полученная информация позволит более эффективно выявлять генетические заболевания и разрабатывать методы их лечения. Кроме выявления причин болезней, в рамках демографических исследований возможно будет изучать генетическую подоплёку такого явления, как долгожительство. Те люди, которые живут очень долго, возможно, получили какую-то особенную, удачную для них комбинацию генетических признаков и было бы интересно понять, что эта за комбинация.



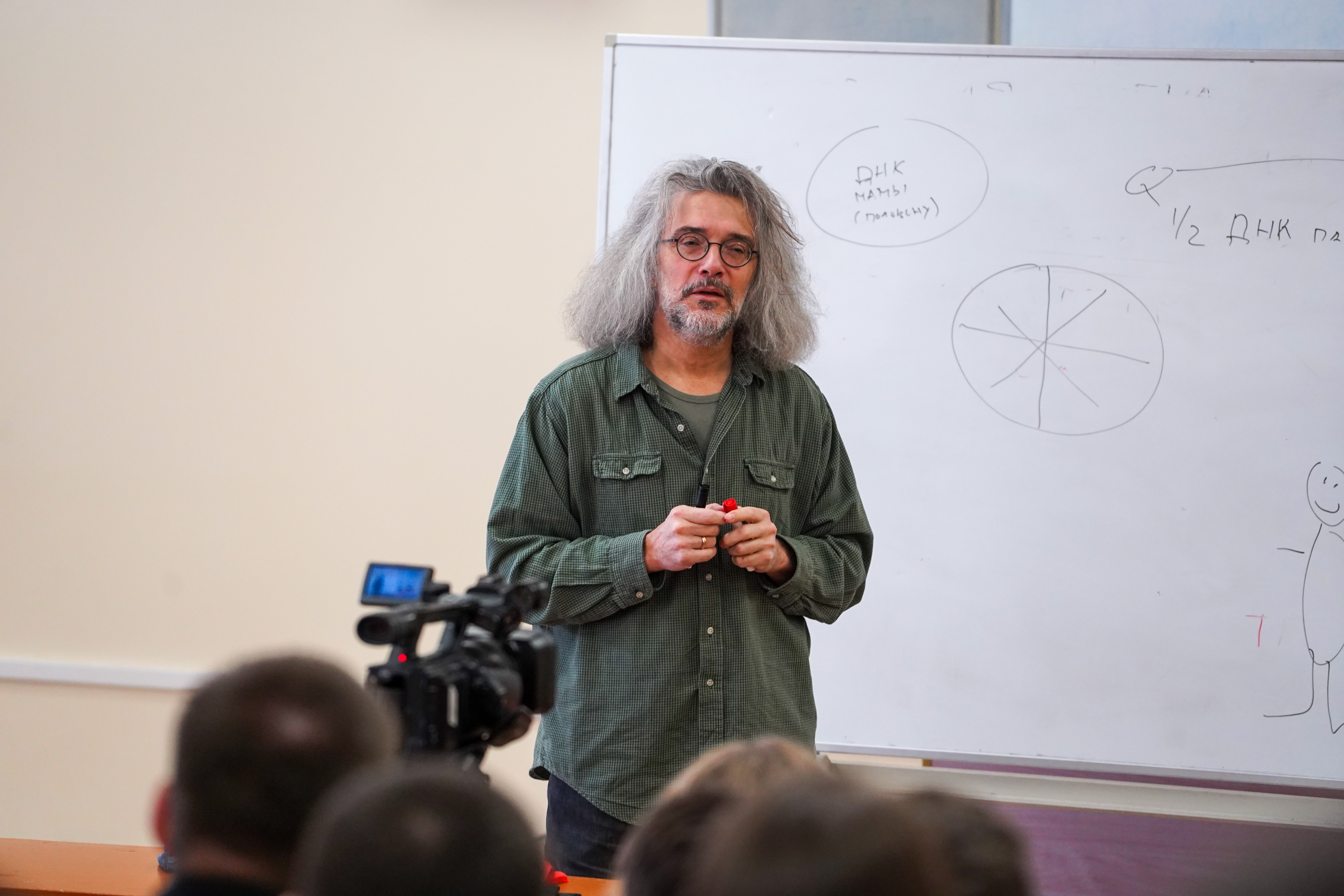





 @sprosiSakhGU_bot
@sprosiSakhGU_bot